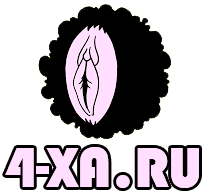Мне во многом в жизни не повезло, но есть одна вещь, которая даже спустя годы положительно пробирает меня до дрожи. Стоит подумать, как в голове мутится, словно потоки крови устремляются от мозга в чресла. Я поклялся маме «никому никогда об этом ни слова!». У жизни много неприглядных сторон, однако не всем выпадает убедиться в этом на собственной шкуре.
Пока я был маленький, болезнь не проявлялась. Я даже посещал шкoльные занятия наравне со всеми детьми. Но с возрастом суставы моих ног стали расти неправильно, хромота стала слишком заметной. Проблема исправляется несколькими операциями плюс ношение различных ортопедических приспособлений из гипса и металлических деталей, с подкручиванием гаек, спицами и извечными пролежнями. Вдаваться в подробности не имеет смысла. Беспокоиться за моё здоровье также ни к чему: к настоящему моменту я практически здоров, многолетний больничный опыт не оказался напрасным.
Большая удача родиться в обеспеченной семье, где средства на существование добываются отцом, а мать имеет возможность быть домохозяйкой. В моем случае это оказалось как никогда важно, поскольку без постоянного ухода было бы трудно проводить в больницах по два-три месяца. С обычными переломами редко по стольку лежат, но мне косточки ломали под наркозом, целенаправленно (извиняюсь за подробности), делали снимки, следили, чтобы не произошло смещения. Дело крайне муторное, так что не нужно удивляться столь затянутым срокам. Люди с онкологическими заболеваниями лежат под капельницами ещё дольше.
Первые два года мы лечились в нашей областной больнице. Один раз нас направили в соседнюю область, а последние два года лечения мы ездили в платную клинику для завершающих операций. Там, конечно, было лучше всего. Многие понаслышке или по личному опыту знают об ужасах больничной повседневности. Только в столичной больнице у нас была отдельная палата на двоих. Обычно же пространство приходится делить с соседями. К обстановке быстро привыкаешь, соседи становятся друзьями, происходит обмен адресами и телефонами. Привычная практика. Потом они уезжают, на их место кладут других. Мы с мaмoй успели насмотреться всякого. Но рассказать я хочу о другом. Возможно это подло с моей стороны… Ослабевший от недостатка движений, я валялся в больничной койке, когда мог бы радоваться и жизни и т. д. и т. п. Из благодарности и уважения к мaмe, мне следовало бы молчать в тряпочку.
До пятнадцати-шестнадцати лет мы ещё надеялись на безоперационное лечение, но его возможности, конечно же, крайне ограничены (хотя некоторые дефекты левой стопы удалось исправить и позже мне вставляли спицы только в правую). Внутренне я ещё тогда готовился к предстоящим операциям.
Первый раз мы лежали недолго — чуть более месяца. После этого нужно какое-то время ходить в протезе. Перерыв на несколько месяцев, и я вновь оказываюсь в знакомой больнице.
Так прошло четыре года. Потом ещё год. Нет ничего странного, что я не имел какой-либо личной жизни. Весь мой интим укладывался в заляпанные салфетки, которые перемешивались с прочим мусором и которые мама старательно не замечала. Иногда я подсматривал, как она переодевается, но не допускал никаких мысленных крайностей. Поначалу мама ещё могла подсмеиваться надо мной — лет в восемнадцать-18 лет это выглядело естественно, — но когда мне стукнуло восемнадцать, а потом и девятнадцать, смеяться над пошлостью этого занятия уже не хотелось. Наверное, это достойно сожаления… Скорее всего так и есть. Болезнь сыграла в моей судьбе определяющую роль. Не хочу показаться сопливым извращенцем, но маме всегда была свойственна жалостливость и где как не в больнице она могла проявить её в полной мере.
…
Завершающие операции, самые сложные и, по воспоминаниям, болезненные. Зато не покидало предчувствие скорого возмездия, представлялось моя подвижность и прямоходящесть. Возможные трудности, связанные с первым опытом, предвосхищались с энтузиазмом. После операции несколько дней проходят в мучениях. Обезболивающее ставят только первые дни, перебарщивать с этим нельзя, так что приходится терпеть. Дело не только в зависимости: со временем эффект лекарств слабеет, и боль лишь становится тупой и нудной. Через эту боль, сон походит на бред, как при температуре. Учитывая летнюю жару, спать было невыносимо.
Должно быть, испытав ко всему этому, отвращение, устав терпеть уныние больничной среды, мама нарочно отвлекала меня чем только могла. Разумеется, она знала и про то удовольствие, которое я старался получать скрытно. Раньше мы сто раз обсуждали эту тему. Соседи по палате могли не видеть, но для мамы вид моего возбуждённого члена, разумеется, не был чем-то новым. Всё-таки самостоятельно я почти ничего не делал, а поддержание гигиены в больничной палате вещь первостепенная. Вообще-то, думать о чём-то «таком» в больнице мало когда хочется. Здесь слышатся стоны боли, а не удовольствия, уклоняться от этого чудовищно преступно.
Прежде у нас было не так много свободного пространства. В областных больницах приходилось мириться с присутствием соседей. В платной в нашем распоряжении был отдельный бокс. Если в больницах и бывает комфортно, то это были те самые долгожданные условия. Четыре года в душных помещениях и вот, наконец, можно открывать окна хоть ночью. Проём выходил во внутренний больничный двор, с четвёртого этажа вид открывался чудный. Всё это несколько сглаживало неприятности процесса лечения, маскируя вместилище страданий под санаторий.
Стоны боли. Стоны боли, а не удовольствия. Удовольствие. Неописуемое удовольствие. Мама просила не смотреть. Мне тоже было не по себе, я прикрывал глаза или поворачивал голову так, что только краем глаза видел, как она поправляет мешающиеся волосы. Комната оставалась неподвижной. А я закрывал глаза и боль медленно обретала своим фоном что-то другое. Фон грубел, и боль сама превращалась в фон. Новизна ощущений всецело компенсировала некоторое неумение. Мама не скрывала отсутствие у неё подобного опыта.
Как мы до такого дошли? долгие месяцы, проведённые в больницах, не у меня одного не было сексуальной жизни. И я помню, что за фасадом наших «чисто семейных» отношений уже некоторое время проскальзывало что-то «такое». Вернее, смутно обрисовывалось некое Нечто. Оно снимало львиную долю того смущения, которое считается нормой. Помню, как умилялась мама, когда ладошками я пытался скрывать от неё мою «сардельку». Потом это и мне показалось глупым. .оrg При подмывании — стандартная процедура — она подсовывала под меня судно или специальный плоский тазик, направляла струю из чайника. Дело весьма рутинное, мне в моём положении вряд ли удалось бы выполнить его как следует. Но с её помощью всё получалось как нельзя лучше.
В определённый момент это «нельзя» угрожающе заскреблось на задворках сознания, вполне, впрочем, ощутимо. Тогда я и подумать не мог, что через какое-то время шутливая игривость в отношении моего детородного органа окажется некой колеёй, на которую мы съехали и по которой направились. И вот она привела нас в отдельный бокс платной больницы, в палату, где нашу повседневную возню никто не мог увидеть. Соответственно, никто и теперь не видел, как мама, усевшись на табуретку, склонилась над моей кроватью.
В первый раз вышло немного неуклюже: член в решающий момент выскользнул изо рта и забрызгал ей всё лицо, мощная струя попала даже на лоб. Видеть это было, мягко говоря… Объяснить охватившее меня чувство чрезвычайно сложно. Где-то рядом, в комнате, у окна или прямо у кровати невидимый цензор съехал с катушек. Он устал кричать «нельзя» и замолк, разглядвая усталое мамино лицо, забрызганное спермой. Лицо, о котором я решительно ничего не могу сказать, потому что слишком привык. Но возраст не та вещь, которую всегда просто скрыть. Даже телосложение выдаёт в ней довольно заурядную домохозяйку, каковой она, наверное, и является. Никогда об этом не думал. Тем более я не думал, что
это так возбуждает.
Стояла оглушающая тишина, когда мама снимала трусики. Дверь она предусмотрительно закрыла на защёлку — такая роскошь в больницах доступна не всегда (и на то есть причины). Мой член в полувставшем состоянии почти достаёт до пупка. Мама пошутила, что он растёт у меня в качестве компенсации. Минут десять мы шептались. Очень необычно видеть её без одежды. Потом она осторожно забиралась на кровать и перекинула через меня ногу. Колени казались надёжной опорой. Матрас чуть промялся.
— Тебе не тяжело?
— Нет… нормально.
Кудрявые пушистые волоски у неё в промежности. «Не бойся… — слышу я, чувствуя головкой соприкосновение с ними. — Вот так…»
Член исчезает елё-еле, буквально по миллиметру, пока наконец не пропадает наполовину. Слишком жёсткий, он стремится застыть под острым углом, приходится крепко держать его, чтобы направить в нужном направлении. Потом остаётся всего треть.
— Аах…
Затем мир обретает своим фокусом мамины бёдра, её задницу, всё словно ползёт вверх, сообразуясь с её движениями. Меня окатывает чем-то непривычным, что я не сразу воспринимаю должным образом. Медленно, чтобы не потревожить мои ноги. Ощущение фантастическое. Ни одна полоска ткани не скрывает мамину наготу. Кожа на груди и плечах загорело-веснушчатая, полный живот, напротив, отдаёт молочной белизной, на нём с разоблачающей ясностью обозначилась пара пухлых валиков. Груди свисают по бокам, похожие на переполненные молоком мешки. В детстве мне так и казалось: у взрослых женщин там молоко. Мысль хоть и наивная, по-своему логичная: в обвисших титьках есть что-то безобразно коровье. Хотя я бы не назвал маму толстой. Несоответствие эталону, некоторая нескладность фигуры лишь положительно подчёркивает аппетитность форм, зрелое совершенство бесстыдно обнажённых прелестей.
Член входил легко и свободно, буквально скользил внутри влажной, хорошо смазанной пещерки. Если бы я был более опытен, то не обкончался бы через пару минут. В любой другой ситуации мама не пошла бы посреди ночи за тазиком с водой, а просто вытерла меня салфетками. Никто в больнице не знал, чем мы занимались. А если б узнал или даже увидел собственными, то непременно стал бы отрицать.
Страшно, что такие вещи бывают фатальнее всего. Запрет на секс между родителями и детьми — один из тех, контроль за которым вписан внутрь нас самих и следить за его соблюдением больше некому. Мы его преступили, и это было безвозвратно.
Мне, признаюсь, немножко стыдно. Я пропустил время первой серьёзной любви. Романтики в моей жизни было по минимуму. Врачи говорили терпеть. Это жёстко, но, в конце концов, по-мужски. Мама тоже так считает. Я чувствую себя именно мужчиной, а вовсе не маменькиным сынком, когда женщина в возрасте обессиленно обмякает на моём члене, постанывая от удовольствия. Плечи, коленки, ягодицы, бока — я касаюсь её везде. В какой-то момент она забывается, позволяет коленям расслабиться, член входит до основания… Парочка таких неосторожных движений, и она замирает в с трудом сдерживаемой дрожи. Нет сил стоять на коленках, и она, нависнув надо мной, переносит вес на локти. Оказывается, это наилучшая позиция, чтобы не давить мне на основания бёдер. Поза наездницы приобрела слегка модифицированный вид.
Когда я был чуть моложе, представлял свой первый раз с ровесницей. С одной стороны, жизнь превзошла все возможные ожидания: не каждому подростку перепадает спать со взрослой женщиной. С другой, эта женщина оказалась моей же мамой. Не исключено, что это очередная экзистенциальная жестокость по отношению к несмышлённому юноше, с таким восторгом принявшем первые недетские ласки. С третьей (неожиданной) стороны: не грех ли жаловаться на первый секс, пребывая в больничной койке? Тем более предъявляя пертензии к близким людям? В самом деле, воспринимать маму иначе как маму я не перестал. Это накладывало на наш секс неизгладимый отпечаток порока. Все знают, что запретный плод сладок, но мало кому перепадает хотя бы лизнуть его — даже на это нужно ещё осмелиться, особенно если речь идёт об отношениях родителей и детей, в которых любая мелочь значительна.
И вот, когда наши лица оказались напротив друг друга, стало ясно, что все эти драгоценные мелочи секс нещадно стирает. Мама застыла, буквально созерцая их бурное горение. Они горели, но не сгорали. Все до единой были видны как на ладони: разница в возрасте и телосложении, воспоминания, закрепляющие за нами наши роли в семье, — это бурлило внутри нас, требуя немедленной явленности и должного урегулирования. Это бурление непонятным образом коррелировалось с сексуальным возбуждением. Его термометр зашкаливал. Невидимый цензор крутил у виска. Его болезненный вид говорил о многом. Слабым голоском он просил меня не распускать руки. Но я не слышал ничего, кроме прерывистого дыхания, и он беспомощно отвёл глаза. Как раз вовремя, потому что плотина, воздвигнутая возбуждением, не могла стоять долго. Поток «нежностей» не ослабевал. Её прорвало…
Если это жестокая шутка и злое издевательство над судьбами людей, если вдруг группа злодеев подстроила всё таким образом, чтобы посмеяться над чьим-то тяжким грехом, глумливо комментируя нашу близость, то я… Эм… я рад возможности их таким образом развлечь. Хотя это, конечно, глупая мысль.
…
О боли я теперь вспоминал нечасто. Новый опыт надолго вышиб все негативные впечатления. Впервые за долгое время появился отличный аппетит, и это будто говорило о благотворности тех крайне сомнительных вещей, которые мы с некоторых пор — и этому можно ужаснуться — делали каждую ночь. Удивительно, насколько легко скука навевает на людей порочное настроение, вернее делает их очень поддатливыми, слабо, или неохотно, сопротивляющимися.
Уже не было тех причин, которые некогда побудили маму переспать со мной. После операции прошло порядочно времени, на обходе врач нахваливал результаты анализов, разрешая постепенно вставать с костылями. Дело шло к выздоровлению. Последняя из операций намечалась через три месяца, до тех пор мы с мaмoй возвращались домой. И всё же тот запрет, который мы переступили, оказался безвозвратно искарёженным, чтобы можно было поставить всё на свои места. Мысль, ранее казавшаяся отталкивающей, даже мерзкой, теперь была необъяснимо заманчивой.
Трудно представить, что у «таких» отношений может быть будущее. Его вроде бы и не было. Мы словно пребывали вне времени. Во всяком случае, говорить о нём не было необходимости. Это могло продолжаться сколько угодно или столько, сколько хотелось. Ведь конце концов во временной перспективе наша любовь и не подразумевала под собой что-либо большее, чем просто безобразный и, прямо скажем, некрасивый секс, когда молодой человек блудит с родной мaмoчкой. Дома мы не всегда могли делать это свободно: у папы не было привычки проводить свободное время непонятно где. Кроме того — сестра, о которой я прежде не упоминал, была достаточно взрослой, чтобы заметить что-нибудь странное. Нас всегда спасало, что разоблачающее нас подозрение выходило за все привычные рамки, потому было недосягаемо для повседневного мышления. Наша связь была вне кругозора большинства людей, исчезая далеко-далеко за горизонтом и даже не виднеясь.
Есть вещи, скрыть которые очень просто. Тогда, в больнице между нами случилось нечто закрытое от третьих лиц и от кого бы то ни было вообще. И до сих пор никто так и не узнал, до сколь постыдной откровенности зашли тогда наши отношения. Пусть прошло уже несколько лет, меня эти воспоминания по-прежнему не отпускают. А реальность всегда с треском проигрывает их непередаваемой и, увы, невозобновимой яркости…
![]()