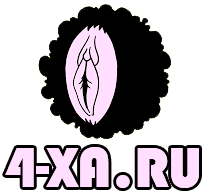I.
Сощурившись, Митрич глядел на синеватый дымок и думал, что курево теперь пошло не то, три — четыре затяга, и нет уж той соломинки — сигаретки, сточилась в дым, и с людьми — то же самое.
Хлипкий стал народ, ненадежный, соплей перешибешь.
Мужик отхлебнул из большой, крестьянской чашки горячего кофе, к которому пристрастился, когда протрезвел.
Митричу нравился его терпкий вкус и табачный аромат.
Вообще — то, данный вычурный, заморский напиток был чужд деревенской породе мужика, замешенной на медах, киселях, чаях, да компотах, но он все же потянулся к нему, особенно после того, как врач из области присоветовал:
— Отказались от алкоголя, так кофе по утрам вам — в самый раз, заодно и сердечко поддержите — кофеин расширяет сосуды.
И теперь наш герой сидел и думал, что это хорошо и правильно, если и вкусно, и полезно.
Кухня фермерского особняка, а именно в нем разворачивается эта история, имела городской вид. Просторный интерьер, современная техника от тостера до комбайна, а мебель в самой Москве заказывали — настоящая, деревянная, из итальянских мастерских, красивущая до невозможности.
Васильевна, это супруга Митрича , которую он звал Бабкой, очень гордилась своей кухней и держала там образцовый порядок. По стенам — светильники, картины, доски, ножи, рукавицы и здоровенный все накрывающий зеленый, шелковый абажур под потолком — прихоть Митрича. Он любил зеленый цвет. Хотя этот несуразный лопух никак не гармонировал с комнатным пейзажем и не лез ни в какие ворота.
Голую, слегка потную спину Митрича овеял легкий ветерок, в кухню явилась сноха Митрича Наталья, простоволосая, в кое — как запахнутом халате.
Молодая женщина шла к холодильнику, и свекор видел, как мелькает в полах халата ее белое, лунное бедро.
Неожиданно для самого себя он задавил шипящий бычок в остатках кофе, напористой струей выдул дым.
Мужик словил ноздрями едва ощутимый, сладкий запах женского пота и неповторимый, здоровый аромат девичьих волос, который не смог заглушить и дым от табака.
Отец собирался уже идти в душ, но теперь понял, что придется уступить очередь этой вихрастой бестии. Вообще — то, в особняке было две ванных комнаты, но Наталья облюбовала ту же, что и отец мужа, где был душ с горизонтальными струями, бьющими в тело прямо из стенок по всей высоте.
Сноха была из тех девушек, которые кружили голову уже одним своим видом.
Вот и сейчас казалось свекру, что под халатом у нее нет белья, у него ожили и зашевелились яйца, и сладкое томление расцвело в груди.
Ранняя пташка открыла холодильник, достала бутылку минералки.
— Доброе утро! — Приветствовала она родственника, подняв высокий стакан и круговым движением языка аппетитно облизала свои губы. На отца она глазела не то с вызовом, не то с иронией. По дурному как-то.
Наталью Митрич почти не знал, общались они мало, никогда не говорили по душам, и вот теперь, в сложившейся трагической ситуации, супруга сына оставалась для отца этаким черным ящиком, что лежит в котором он не ведал. И это слегка пугало его.
— Здравствуй, Наташа, — отозвался домосед.
Свободной рукой бедрастая красавица поправила бирюзовый халат, мужик успел сфотографировать, что белье на девушке все — же есть — белоснежные, простые трусики, плотно облегающие промежность, с волнующей лунной дорожкой, едва приметно темнеющей под полупрозрачной тканью.
Митричу захотелось охватить талию прелестницы единым круговым охватом, крепко, до хруста, прижать к себе и лизнуть ее в пухлые, солоноватые после минералки губы. И чтобы сок ее слюны остался на языке.
И чтобы о грудь его сплющились ее молодые груди, и чтобы головка члена, черт с ним, пусть и через трусы, ткнулась в ее спелую плоть. Хотя бы просто ткнулась, и все.
Он так это живо представил, что его залупа заныла, а сам он зажмурился.
Сверкнула подсветка, стихла вода, а когда мечтатель поднял тяжелые веки, гостьи на кухне уже не было.
А он еще долго, ссутулившись, торчал у стола и проклинал себя за свое преступное желание. Он и сам не понял, как поддался этому влечению, которое давил в себе всеми мыслимыми способами, гасил, как пламя и зло топтал, мерцающие тут и там угли.
Две недели назад сын с женой приехали погостить в дом родителей, каждый вечер молодые неизменно выпивали, часто по утрам Наташка терлась о холодильник, спрашивая у него ледяной минералки, именно в то же время, когда Митрич пил там свой утренний кофе.
Дом нашего героя, крупного фермера Романа Дмитриевича Милютина одновременно был и его офисом. После завтрака землевладелец поднялся в свой кабинет на втором этаже, встал у широкого окна. Он любил эти первые утренние часы, когда просыпалось его хозяйство. Прямо от дальней линии просторного, неогороженного двора с гаражами и мастерскими простиралось до самого горизонта сочнозеленое поле кукурузы.
Солнце уже ощутимо прожаривало атмосферу, над далеким горизонтом играло зыбкое, едва приметное, радужное марево.
Мастерские трудились во всю, темные провалы их дверей то и дело озарялись бесшумными белыми вспышками — то работали сварки.
Двор пересекала уползающая на поля техника — грузовики, трактора, опрыскиватели.
Милютин был крепким хозяином и авторитетным человеком, его уважали, и ему не надо было каждое утро обходить свои владения или торчать в цехах — отлаженный процесс производства четко работал и без него.
Митрич видел, как под окном внизу из — под красного, металлического козырька крыльца на солнцепек выплыла такая знакомая ему, неприкрытая макушка сына Павла. Наследник постоял у ступенек, огляделся и поплелся в сторону элеватора.
Страшно худой и какой — то бесконечно неприкаянный. Отец смотрел сверху на сына, и кровью обливалось сердце отца.
Павел был пилотом гражданских судов, возил гуманитарную помощь в Сомали, год назад попал в плен к пиратам, правительственные войска сумели отбить пленников, но пираты, потехи ради, успели кастрировать нескольких из них, в том числе и Павла.
И не просто кастрировали, а все срезали под корень.
Перед обедом отец и сын случайно встретились в тенистой дальней беседке у столовой.
Пашка сидел там уже давно, а отец подсел.
Работники знали о беде в семье хозяина, старались не занимать Павла, обходили его стороной как чумного, чем делали ему лишь хуже. Он днями слонялся по цехам, столовым и складам, ища, кому бы выговориться. Он винил во всем себя, и ему хотелось, чтобы кто — то разубедил его.
Митрич выкинул на стол пачку сигарет, накрыл ее зажигалкой. Закуривать не стал.
Жаркий ветер приносил живой ропот кукурузной листвы и душный запах спелой пшеницы.
— Скажи, батя, неужели в жизни это главное? — Уступив родителю отрезок лавки, спросил отпрыск и, как школьник выложил локти на стол.
Они теперь никогда не садились напротив потому, что не могли смотреть друг другу в глаза.
Отец прекрасно понимал, о чем таком «главном» спрашивает сын, так или иначе он постоянно муссировал больную тему, подъезжая к ней с разных сторон, но вот так в лоб и напрямую он решился заговорить в первый раз.
Родитель помолчал, посмотрел на поля:
— Жизнь, она, Пашка, штука сложная, непредсказуемая. Ты не знаешь, то есть, как она повернется.
Где — то главное, где — то не главное. Иные весь век живут и секс им не нужен, а другим — подавай каждый день. Если ты клонишь к Наташке, то я тебе так скажу, может, она и останется тебе верной, но это будет первый такой на моей памяти случай.
— Спасибо, папаня, я думал, что ты что — то дельное скажешь.
— Раньше надо было думать, в Сомали этом твоем. Говорил я тебе, оставйся в селе, так нет же, ему, видите ли, надо было летать. Вот и долетался.
— Я что ли виноват.
— Тебе отхватили, значит, ты и виноват.
— Да чем, ну, чем я провинился?! — Психанул отпрыск.
— Человек сам хозяин своих бед. Где — то недодумал, где — то недоглядел. А может и на рожон попер, с тебя сбудется. Еще разобраться надо, что там у вас за «гуманитарная помощь» такая была.
— Если Наташка меня бросит, я не переживу, — как — то очень искренне сказал сын и доверчиво положил свою голову на плечо к отцу. Так и сошлись эти две головы на одном теле — лысеющая, седая голова отца и буйная шевелюра сына, которая не поредеет уже никогда. Отец, похожий на здоровенного вертикального жука, был значительно крупнее сына. Худенький Павлик и сейчас по сравнению с ним казался ребенком.
Митрич обнял Пашку за плечо, зарылся носом в его волосы, отцу казалось, что они пахнут так же, как в детстве сына — каким — то дешевеньким, приятным мылом и солнцем.
— Я, бывало, наклонюсь к тебе в колыбельку, а ты, хвать меня за усы, сам крошечный, а цепкий, как репей. Хохочешь, а голосок звонкий и ножками своими лупишь меня в грудь, а они крепенькие, как кулачки. И такой ты настырный и противный был, что кажется, взял бы тебя на руки, прижал к себе, да так бы и носил, всю жизнь, до смерти. — Со светлой улыбкой вспомнил отец.
Пашка поежился и всхлипнул, а отец продолжал:
— А то, слышишь, пустил я тебя с горы на велосипеде, а ты, бах, яйцами об раму. Ору было, я чуть не рехнулся, — щурился от счастливых картин отец. А сын вдруг отстранился и с укоризной поглядел на него. Родитель был поражен глубокой печалью его больших, темных глаз.
— Ну, то есть, я хотел сказать, что дюже бойкий ты был уже тогда, — виновато кхекнул «папаня» и отер кулаком усы, смекнув, что сболтнул лишнее. И тут же взбодрился:
— А что, это я виноват что — ли, что ты яйца свои с измальсва не берег, то об велосипед бил, то вот в Африке их оставил.
Мимо шла Наталья в длинном, светлом сарафане, в венке из полевых цветов, с розовыми очками, лежащими на прическе поверх венка.
Игривый ветер лепил тонкую ткань платья на стройное тело девушки, которое проступало четко своими крутыми, гранеными бедрами и пирамидами грудей.
— Мужчины, что вы тут жаритесь на солнце? Айда обедать. — Позвала она близких, щурясь от солнца и поправляя локон.
Родственники проводили это чудное видение взглядом, оба глубоко вздохнули:
— А то еще, помнишь Пашка, как ты на двери огонек нарисовал, а твой дядька Васька спьяну хотел от него прикурить?..
II.
С вечера Васильевна, супруга Митрича и мать Павла была сурова:
— Опять, кобелина старый, на Наташку губы расслюнил? — Прямо влепила она в лоб мужу, едва они уединились в своей спальне. Васильевна была женщиной суровой, но справедливой.
— В смысле? — Развел руками мужик.
— А то и «в смысле», возьму кастрюлю с кипящим борщем, надену на твою подлючую башку и завяжу снизу, как ушанку. Счас у нас один инвалид в доме, а то будет два. А то я не вижу, как ты вокруг молодки вытанцовываешь: Наташенька, вот тебе полотенечко, Наташенька, возьми тот кусочек, он самый вкусный. Гляди, вражина, тронешь ее — или из ружья тебя прямо убью или грибами отравлю.
Потом долго лежали и молчали, синхронно глядя в потолок, на котором качались скошенные прямоугольники света от дворовых фонарей. Близко залаяла собака, лай тут же стал отдаляться и растворился где — то в в кукурузных полях.
— Ты, это, Митрич, потопчи девку, — вдруг нерешительно попросила Васильевна.
— Как это, «потопчи»?! — Очнулся хозяин и даже сел на постели, спиной к Бабке.
— Ну, как мужики топчут баб. Ой, а то тебе не известно, кабан похотливый. Сколько беды я с тобой приняла, чуть все глазоньки свои не выплакала, — шмыгнула носом женщина.
— Уйдет ведь она от Пашки, ей мужик нужен, что будем тогда делать? Вот и подсоби сыну, ты не облезешь, а всем облегчение.
— Дура ты, баба, набитая, — искренне сплюнул супруг. — То борщ на голову опрокину, то «потопчи». И что я сыну родному, своей кровиночке, скажу? Да, я лучше застрелюсь, а на жену его не полезу.
— Полезешь, как миленький, — гладила старика по спине его старуха. — А то я не вижу, что с тобой по утрам делается, одеяла не дождешься, ты ж его так крутишь на своем этом кривом хую, что его не поймаешь. И сын все поймет и рад будет, что родному человеку досталась жена. Павлуша у нас с детства умненький, это он весь в моего отца.
— Это твой — то отец «умный», тот, что дом спалил и мать твою топором гонял?!Пашка весь — в мою мать, вот кто была святая женщина!
— Цыц! Ложись спать!
С утра Митрич поехал в район, в налоговую. Там выяснилось, что его главбух завалил отчет, да не случайно, а с умыслом — хотел прикрыть свои махинации.
Из райцентра Митрич ехал мимо своих полей — пшеничка, кукурузка, подсолнух. Поля широко и плавно раскрывались одно за одним, как файлы и радовали глаз хозяина своей ухоженностью.
Иссиня — черный джип замигал правым апельсиновым фонарем и съехал на обочину — то фермер не смог побороть искушение выйти в поле и слиться с ним. Мощный колос, уже в стадии восковой спелости, стоял густой стеной, могуче и приветливо шелестел под ветром. Богатый урожай по всему этому неоглядному морю схватывался вихрастыми круговинами и катился волнами.
На ближнем колосе качалась удивительно красивая васильковая бабочка, ее крылышки вытянулись и дрожали как трепетное пламешко на фитильке свечи.
Митрич подставил палец и приятное насекомое, синхронно взмахнув крылышками, смело взошло на этот указательный перст. Этот замечательный человек поднес ее к самым глазам, он любовался ею, как каким — то диковинным цветком, она, казалась, чувствовала это и спешила показать себя — крошечные глазки, перламутровое брюшко. Потом поднял палец в небо, прелестница вскарабкалась на самую его верхушку и полетела, как — медленно и неуклюже трепыхаясь в волнах ветра.
Его порывы усиливались, поле гудело все тревожнее, и вдали, по по всему горизонту грозовым фронтом встали темные тучи с седыми вершинами, в которых, как в крепостных башнях, уже гуляли и пересекались молнии.
Чуть позже Митрич и Наталья сидели все в той же беседке друг против друга, оба держали руки перед собой на столе и чуть ли не соприкасались ими. Небо рокотало, все острее пахло дождем.
— Скажи, Наталья, зачем ты с Павликом? Почему не уходишь? — Прямо спросил свекор сноху.
— Вы сегодня какой — то сердитый, Роман Дмитриевич? — Посетовала молодая родственница.
— Смотри, если ты на мои миллионы рассчитываешь, то это зря, не получишь ни копейки.
— Это почему?
— Да потому, что я пожил уж на свете, и знаю цену такой вот «верности».
Первые капли дождя сыпанули на крышу беседки, свежо и ярко пахнуло клевером, но дождь качнулся и опять отдалился. Наталья поправила старомодную, клетчатую шаль Васильевны на своих плечах. Задумчиво и долго смотрела на горизонт:
— Я в детстве была страшно лопоухой, — наконец заговорила красавица. — И с Павлом, когда познакомились, я прической, как могла, скрывала этот свой недостаток.
А потом решилась, пошла и сделала операцию — мне скорректировали ушные раковины, но процедура оказалась неожиданно сложной, пошло воспаление: вся голова искромсана, лицо перекошено, и врач еще «утешил», говорит, если не удастся стабилизировать ситуацию, можешь на всю жизнь уродиной остаться. Слова не такие, но смысл этот. А мне 22 года, представляете мое состояние?
А тут Паша приходит проведать. Хотела спрятаться, не показываться ему, я ведь крокодил, крокодилом, и волосы собраны в шапочку, их не распустишь, ничего не спрячешь. А, думаю, чего уж, в общем, вышла.
Говорю ему: возможно, ничего не заживет, на весь свой век такой останусь. Он ушел, думала, навсегда, а он наутро приносит мой портрет — всю ночь писал. И столько в этом портрете любви и света, и ушки правильные у меня и красивые — в общем, красавица я, глаз не оторвать. А он мне говорит: знаешь, кто это? Это ты. И какой бы ты ни была, мне все равно, потому, что я знаю, какая ты. Эта картина, как зеркало, показывает тебя настоящую.
— Да, Пашка, если захочет, то нарисует. Он такой, — добродушно кашлянул Митрич и снова спросил:
— И ты это помнишь? Сейчас — то ты, вон какая раскрасавица!
— А такое разве можно забыть? И не надо нам от вас никакого наследства, сами все заработаем, вот только Паша чуть поправится. Мы ведь уже две картины его продали и новые заказы есть. Может, оно и к лучшему, что так все вышло, что его карьера в авиации завершилась, наконец займется своим любимым делом, ведь Павел — большой художник. И приехали мы к вам не за деньгами и богатствами вашими, а как к родным людям, нам просто сейчас надо немного любви и тепла… Ребеночка вот только очень хочется, — тихо добавила девушка, склоняя голову.
Пахло градом, мокрой травой, черные тучи стянулись в самый центр купола и сгрудились так плотно, что обнажили неширокую полоску неба над горизонтом, там оно было пронзительно — синим и сияло так радостно и ярко, что жутко захотелось жить.
— Ты, Наташа, это, прости меня, дурака старого, сам не знаю, что нашло. И, знай, мы все очень вас любим.
Все, что угодно ожидал Митрич от этой «легкомысленной девИцы», кроме такого умного и честного ответа.
Она накрыла пальцами его руку и благодарно сжала. Он поднял руку, поднес ее пальчики к лицу, дотронулся губами.
За обедом, где все домочадцы почему — то молчали, дружно стуча вилками, глава семейства попросил сноху попозже подняться к нему в кабинет. Он собрался предложить ей место главбуха. Он окончательно убедился, что тут необходим свой человек.
После трапезы отец предложил сыну включить компьютер в общей комнате, искал какие — то справки.
Пашка сидел в кресле перед монитором, Мирич стоял рядом, положив руку на высокую спинку кресла и сверху тоже всматривался в экран. Послышался стук каблуков. C другой стороны подошла Наталья, ее волосы теперь были убраны в богатую косу — колос, на девушке были красные туфли на шпильке и очень короткое, облегающее, светлое платье, которое, казалось, не одевало, а раздевало красотку, обнажая высокие, подкрученные бедра и полушария грудей в глубоком и широком декольте, как в корзинке.
Митрич тут же вспомнил «лунную дорожку».
Прелестница тоже пристроила ручку на спинку кресла, «нечаянно» попав ею на лапу свекра, но не убрала, а оставила, делая вид, что не замечает, на чем лежит ладонь. Она тоже смотрела в монитор и кусала губу.
Мужик не знал, что ему делать и ждал. О документах он уже и не думал.
Он не понимал, правда ли сноха не чувствует его руку или притворяется.
Он тихонько шевельнул конечностью, Наталья тоже, и они жадно сплелись пальцами.
Паша этого, естественно, не видел.
— Что ты, любимая? — Обернул он на супругу свои синие глаза.
— Да вот твой отец говорил о деле, зову его в кабинет, мне потом еще надо успеть в райцентр, маникюр хочу сделать. Ты наверное забыл, а у нас завтра годовщина свадьбы. — Волнуясь, выдохнула она.
Все это время изменщики жадно тискались пальцами. И Митрич, млея от тревоги, понимал, что все табу уже сняты, и это, когда он сам не сформулировал еще для себя свою стратегию. А сноха так — то странно переступала на своих ослепительных ногах, нетерпеливо гарцевала, как молодая кобыла под перестук каблуков.
— А вот и не забыл, а даже подарочек заготовил своей любимой женушке, — торжествовал сын. И тут же обратился к отцу:
— Пап, ну побеседуй с Наташей сейчас, раз ей надо освободиться раньше.
Мужчина и девушка переглянулись, и, не сговариваясь, разом отступили от кресла. Первой по ступенькам лестницы шла Наталья, она почти бежала на носках туфель. Митрич едва поспевал за ней, с удивлением чувствуя, что его слабое сердце окрепло и уверенно несет его вверх.
Ступеньки мелькали одна за одной как спицы, порой гремели каблуки, перед глазами папы плыла невероятно аппетитная попа «доченьки», энергично работая упругими ягодицами. Пожилой, солидный мужчина окончательно потерял голову, он думал лишь о «лунной дорожке», ощущая нарастающее давление в паху.
Влекомый Натальей спутник выронил телефон, он улетел в пролет и грохнулся о паркет, как — то остро вякнув.
В кабинет ворвались фактически одновременно. И там, наконец, слились в ненасытном поцелуе. Возбужденный мужик хотел было выпростать плечи любовницы из платья, не снимая его, а просто спустив на предплечья, но понял, что одежка узкая, в три рывка разнес материю и невольно отступил, ошарашенный сияющей наготой молодицы, где единственным темным местом была та самая «лунная дорожка» с лобка, подстриженная клинышком, раздваивающимся внизу крупными, выпуклыми половыми губами, обсеянными редким, темным ворсом, между которых алела нежнейшая мякоть того самого «запретного плода» с темной дырочкой.
Тяжелые, чуть свисшие груди торчали в стороны сигаретными фильтрами сосков. Опомнившись, Наталья взвизгнула и прикрыла руками груди и лобок.
Она и сама не успела понять, как свекор сумел так быстро и ловко раздеть ее, под платьем у нее не было белья.
А он уже подхватил ее на руки и кинул на стол лицом к себе, полетели какие — то папки и листы бумаг. Девушка изящно обвила шею мужчины руками, а бедра — ногами, и любовники снова слились в поцелуе.
И хотя этот племенной бык все еще тяжело и натужно сопел, сквозь распертые ноздри, таким легким и бодрым он, кажется, не чувствовал себя никогда.
Раскаленными, жадными руками он охватывал ее по внешним боковинам округлых бедер, она вся, вся была в его объятиях, в его ручищах и даже если бы и захотела вырваться, он ни за что не отпустил бы ее, не наказав как следует ее «лунную дорожку», так долго дразнившую его.
Все произошло так быстро, что хозяин даже не успел выбрать какое — то удобное место для спаривания, он лишь распустил ремень на брюках, и они свалились к его ногам. Взяв Наташку за лодыжки повыше туфлей, как за ручки сохи, он широко развел ей ноги, неловко ткнулся торчащим как кол членом в лобок, потом в клитор, наконец уперся тупой, тяжелой головкой прямо в гребешкастый запретный плод, в целом казавшийся вяловатым и сморщенным, но уже с хорошо увлажненной дырочкой, откуда сочилась смазка.
Снохач с усилием погрузил в него залупу и почувствовал, что под «шкуркой» этот «фрукт» очень сочный, мягкий и горячий. Головка пошла свободнее, мужик не удержался, засадил своего гонца в девку на всю, плавно въехал в нее сразу по самые яйца. Наталья вздрогнула и рефлекторно уперлась в живот любовника ладонью, словно ограждая себя от него.
За окном сверкнула молния и близкий, сокрушительный гром обрушил тяжелый занавес ливня прямо на крышу дома. Железо сначала загудело, а потом завыло.
Кажется хозяйка сама удивилась с какой смелостью и отвагой ее вагина приняла этот член, а влагалище уже жадно засасывало и засасывало эту кривую скользкую каргалыку, подчинив всю хозяйку своей первородной похоти. Зло глядя ебарю прямо в глаза своими черными осиными глазищами, все так же обвивая обеими руками его шею, сноха широко и плавно подмахивала свекру и насаживаясь на него все глубже.
Ее груди вздрагивали от каждого толчка, соски ходили вверх — вниз и становились все злее и крепче, наливаясь предчувствием оргазма.
Изголодавшаяся по жирной ебле самка заглатывала член с таким волчьим аппетитом, как будто ее «кормили» им в последний раз , в ее мозгу уже зарождались и вихрились токи, которые наращивали свою силу, готовясь прошить ее блаженством всю головы до пят и вознести прямо в рай, минуя смерть. В синхрон с головой работал уже и клитор, также овеваемый синеватыми токами высокой частоты, которые жалили ее остро, но так невероятно сладко.
Под ягодицу девушки попал какая — то кнопка, бедняжка еще чувствовала ее, но та уже не причиняла боль.
За то соски изменщицы развернулись как мизинцы на всю длину и, когда тыкались в волосатую грудь любовника, вспыхивали наслаждением.
Она скулила и всхлипывала и с каждым разом все громче.
Митрич было попытался зажать ей рот, но она до крови укусила его за руку, и он ослабил хватку.
Мужику самому было так хорошо, как будто он крутил на хую всю Вселенную, со всеми ее звездами и планетными системами.
Подступающий оргазм сладкой тошнотой схватил его за горло, откатился вниз к головке члена, и бешеной шершавой осой зазудел в ней.
Как ни крепился мужик, но оттягивать блаженный момент у него не было никаких сил. Знал бы, так поебал бы накануне свою Васильевну, чтоб хоть чуть спустить пар.
И вот член начал ритмично сокращаться, Митрич с усилием, буквально руками, вырвал его из вагины, он вылетел с таким громким и смачным чпоком, с каким вантуз отрывают от стока раковины.
И полетела сперма кусками на живот снохи и тяжко капала с разом обвалившегося члена.
— Мой любимый, мой хороший, мой родной! — Безумно шептала распаренная, растрепанная девка, заполошно целуя свекра куда попало — в усы, в глаза и щеки.
Своими остывающими бедрами Митрич чувствовал горячие ляжки снохи, и лип яйцами в свою сперму, разлитую на столе.
— Какой я тебе «любимый»?! — Зло пихнул мужик эту дуру и стал натягивать трусы. Ему стало так хуево, что свет померк в его глазах. Он понял, что больше не сможет без нее жить, что снова и снова будет зазывать ее в свою спальню, и она будет приходить. И он ничего с этим не сможет поделать, потому что, наконец, встретил ту самую — свою единственную, любимую женщину.
III.
Пашка стоял внизу у лестницы, он все слышал. Брови — домиком, руки опущены и висят вдоль тела плетьми. Сердце Романа Дмитриевича зашлось от жалости к своему ребенку. Отец хотел крикнуть: «Прости меня, сынок», но спазм перехватил горло, из него вырвался лишь какой — то горький хрип, и слезы покатились из глаз старика. «Герой — любовник» плелся по лестнице, держась за перило, его душила одышка, и сердце в груди билось так тяжко, что, казалось, вот — вот проломит грудную клетку и вывалится наружу. Все — таки он капитально отвык от таких секс — прогонов, на Наташке он оставил буквально все свои силы. Отец и сын нечаянно толкнулись плечами, Павел подал родителю телефон, и голый по пояс Митрич поковылял на улицу в беспорсветный дождь, который сеял и сеял на село, луга, леса и поля.
Мужика видели в церкви, где он ругался с батюшкой. Фермер, он же единственный спонсор местного храма, явился разузнать, является ли грех, совершенный во благо, грехом?
Священник, отец Онуфрий смиренно ответствовал, что всякий грех — грех и есть.
— Чего ты мелешь?! — Неожиданно вылупил глаза пришлый грешник. — Поп ты хуев, я пришел к тебе за утешением, а ты мне морали читаешь? Хер ты больше от меня хоть копейку получишь.
— Так это смотря по контексту! — Взвизгнул козлобородый, смекнув, что ляпнул не то.
— Вот тебе, сука, контекст, вот тебе контекст, гуманист хуев! — Схватив за бороду святого отца, непутевый сын божий возил его по полу, пинал ногами, обутыми в раскисшие от грязи комнатные тапки.
В это время сын Митрича вкачивал в себя уже вторую бутылку редкого, кубинского рома, густого и черного, как смола и облизывал свои кулаки, которые разбил о стены — по всему коридору они были забрызганы кровью. Там стояла монстера в кадке, в крови была и она.
Мать и жена сидели напротив Павла, они пытались как то помочь ему, но не знали как. Все трое безмолвно торчали со своих сидушек, как попало комкали гримасы, а те сочились слезами.
В тот вечер и закодированный Митрич напился в стельку. Домой он притащился, отталкиваясь руками от качающейся под ногами земли. Под утро его увезла «Скорая», а в 9 он скончался в районной больнице в кардиореанимации. В гардеробе жаловались потом, что вещи покойника густо пропахли ладаном, как будто он причащался перед смертью.
Через девять месяцев Наталья родила своего первенца, Павлу, выходит, сына и брата. Все таки впрыснул нечаянно свое плодородное семя свекор в созревшее лоно снохи. Глубоко вспахал и засеял опытный фермер свою последнюю розовую борозду.
Есть такая примета: чтобы в семье родился младенец, надо, чтобы умер кто — то из старших родственников.
Так и живет в народе это старинное поверье, дробится и качается, то находя, то не находя свое подтверждение.
Ибо жизнь человеческая непостоянна, как море и столь же зыбка, как его лунная дорожка.
Приходите на Бусти, там много моих полных, фирменных историй
https://boosty.to/oxisslaif
Прислано: Оксана Литовченко
![]()